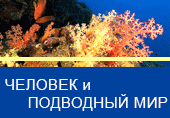
Встречи с невидимым врагом

На подводных тропах водолаза подстерегает масса опасностей, и, пожалуй, главная среди них - глубина, давление воды. Человек дышит животворным "газовым коктейлем" - воздухом, но при возрастании давления каждый компонент этого "коктейля" начинает проявлять новые и, как правило, вредные для организма свойства. Поэтому спуски на большие глубины на сжатом воздухе сопряжены с немалым риском и проводятся не часто. Азот - один из основных компонентов воздуха - на глубинах 40 - 60 метров начинает оказывать на человека действие, сходное с алкогольным опьянением. И не зря говорят об азотном наркозе, азотном опьянении - у водолаза нарушается критическое мышление, появляется беззаботное отношение к своей жизни, он совершает нелепые и опасные поступки.
Наркотическое действие азота изучено еще недостаточно хорошо. Возможно, что глубинное опьянение - результат совместного влияния азота, кислорода и углекислого газа, в избытке растворенных в крови при повышенном давлении. Влияние глубины на водолаза проявляется строго индивидуально. Мне приходилось работать на сжатом воздухе на глубинах 80 - 90 метров, и я не испытывал сильного возбуждения, да и товарищи, обеспечивающие мои погружения и поддерживающие со мной телефонную связь, также не отмечали у меня каких-либо изменений, мешающих выполнению работы. Но мне неоднократно приходилось встречаться со случаями азотного опьянения водолазов.
Только внимательное обеспечение спусков позволяло своевременно выявить это страшное состояние и предотвратить несчастье. Одни водолазы после хорошей вентиляции скафандра избавлялись от азотного опьянения и продолжали работу под водой, других приходилось поднимать на поверхность, трагических случаев в моей практике, к счастью, не было, но я Уверен, что азотная опасность - одно из серьезных осложнений, выпадающих на долю водолаза-профессионала, и справиться тут может лишь хорошо подготовленный специалист.
Если водолаз испытывает азотный наркоз на глубине, то кессонная декомпрессионная болезнь подстерегает его у поверхности. Люди впервые столкнулись с этой болезнью на строительстве Бруклинского моста, где землекопы рыли выемки для мостовых устоев в шахтах (кессонах) со сжатым воздухом.
"Кессонка" - враг коварный, она подкрадывается неожиданно и застает человека врасплох уже на суше, когда он после продолжительной работы на глубине думает, что все опасности позади и можно расслабиться. Причина заболевания вроде бы ясна: "закипание крови" - активное образование в крови газовых пузырьков при резком снижении давления (всплытии водолаза). Пузырьки закупоривают кровеносные сосуды, сдавливают ткани, в суставах и мышцах возникают невыносимые боли, и, если не принять соответствующих мер, человек навсегда может остаться инвалидом или погибнуть. И вновь азот! Именно он при повышении давления усиленно насыщает ткани организма. Именно от его избытка при резком понижении давления "закипает" кровь. Единственный выход - вернуть человека в условия повышенного давления, дать возможность излишкам азота постепенно раствориться в тканях организма, а затем постепенно, с учетом многих факторов снижать давление, следя за тем, чтобы азот покидал ткани с выдыхаемым воздухом.
Для борьбы с кессонной болезнью сооружают специальные рекомпрессионные камеры, в которых водолазы освобождаются от "груза" глубины. С целью профилактики разработаны специальные таблицы режимов декомпрессии. И все-таки встречи водолазов с этим коварным врагом достаточно часты. Возникновению заболевания способствует масса факторов как внешних (холод, интенсивная работа, время и т. д.), так и чисто индивидуальных, которые можно назвать личной чувствительностью водолаза к кессонной болезни. Поэтому, несмотря на длительную историю изучения, до сих пор до конца не выяснена роль психологических и физиологических факторов, порождающих болезнь.
Могу сказать, что за годы практики я собрал очень большой материал по клиническим характеристикам заболевания. Основной мой вывод: декомпрессионная болезнь возникает иногда даже при неукоснительном выполнении существующих правил техники безопасности. Развитию ее способствуют нарушения режима труда, питания и связанные с ними психофизиологические и физические перегрузки организма, не учтенные в рабочих декомпрессионных таблицах.
Играет свою роль и скорость погружения водолаза на глубину. Испытал это на себе.
Благодаря хорошему состоянию придаточных пазух носа и слухового аппарата я буквально камнем погружался на глубины 50 - 60 и более метров. Наркотическое действие азота меня на этих глубинах не преследовало, но, опустившись на грунт, я испытывал усталость. К работе мог приступить только после двух-трех минут интенсивной вентиляции скафандра и восстановления нормального дыхания. При этом от утомления при скоростном спуске я все равно избавиться не мог.
Попробовал погружаться с нормальной скоростью; в этом случае к грунту подходил в бодром состоянии и сразу же приступал к работе. Я рассказал о своем открытии более опытным товарищам и понял, что адаптация организма необходима как при погружении, так и при подъеме, только в разных режимах.
При работах на глубоководных объектах и погружениях на сжатом воздухе мне не раз приходилось сталкиваться с таким непонятным явлением, как нарушение координации движения конечностей. Только огромным усилием воли я восстанавливал их двигательные функции.
Я твердо убежден, что как скоростное погружение на глубину, так и нарушение двигательных функций конечностей при спусках на сжатом воздухе способствуют декомпрессионному заболеванию, поскольку нарушение режима адаптации и стрессовые вспышки вызывают немалые психологические и физиологические напряжения, ведущие к ослаблению защитных функций организма вообще.
Для более четкого понимания многогранности декомпрессионных явлений расскажу о случае с глубоководником Борисом Дурасовым, моим товарищем, надежным помощником Большой опыт водолаза-профессионала, собранность и организованность помогали Борису выполнять самые сложные работы на глубине. Но "кессонка" не милует иной раз и сильного человека. Не миновала она и Бориса. Вот что он рассказал:
- Июньское утро не предвещало беды. Море отдыхало после шторма. Как всегда в хорошую погоду, водолазные катера "Вест" и "Румб" вышли из порта в район глубоководных погружений. Работу предстояло вести на глубине семидесяти двух метров на сжатом воздухе. Требовалось отвернуть несколько болтов у фланцевых соединений труб. Но трудности все же были. Все шарнирные соединения были погружены в вязкий ил, который нам предстояло убрать. Кроме того, надо было остропить и приподнять соединения труб так, чтобы ослабить болты, соединяющие фланцы. Была еще трудность на нашем пути - большая глубина. Простая работа на мелководье на большой глубине становится сгустком проблем.
Мы действовали строго по таблицам, разработанным для погружения человека на большие глубины. Работа спорилась, Головина болтов была снята, остались нижние болты. С ними придется поработать под поднятой трубой. Риск, но ничего не поделаешь.
Обсудили все особенности и пришли к выводу, что выполним эту работу втроем за один день в два-три погружения. Первым под воду ушел водолаз Лукачев. Он справился с заданием. Вторым по нашему графику должен был идти Васильев - молодой водолаз, прибывший к нам с военного флота. Но чтобы ускорить работу, решили: пойду я. Меня быстро облачили в снаряжение, так же быстро я спустился на грунт - в пределах полутора-двух минут. Видимость была хорошая, но, как только я коснулся грунта, поднялось темное облако. Работал уже в полной темноте под приподнятой трубой. На исходе десятой минуты не стало хватать воздуха, заливало потом глаза. Наверху по моей команде держали предельный подпор сжатого воздуха. Под полной нагрузкой работали компрессорные установки водолазных ботов, но воздуха все-таки не хватало. Я держал голову на травящем клапане и продолжал работать. Немного восстановил дыхание. А время идет. Надо снять последний болт, но сил уже нет. Последним усилием "отдал" болт и услышал команду подниматься наверх. Время пребывания на грунте истекло. Первая остановка - на двенадцати метрах. Сел на балясину декомпрессионной беседки. Тело от усталости было непослушным и вялым. Попросил дать больше воздуха, чтобы провентилировать скафандр. Просьбу исполнили мгновенно. Минуты четыре хорошей вентиляции - и стало легче дышать, да и на душе стало спокойнее. Работу все-таки выполнил, даже быстрее, чем предполагал.
По режиму время моего нахождения на двенадцатиметровой глубине закончилось. Поступила команда перейти на девятиметровую глубину. Доктор сверху периодически спрашивал о самочувствии. На девяти метрах я уже почувствовал себя хорошо. Друзья наверху успокоились. Вдруг минут через пять я почувствовал резкую боль в левой половине шеи. Не придал этому значения. Мало ли что: может быть, повернулся неудачно или еще что. Но через минуту боль повторилась, перешла в левую лопатку и левую руку. Тут я понял, что это "кессонка". Попросил к телефону врача и подробно рассказал обо всем.
К этому времени я перешел по режиму на шестиметровую глубину. Левая половина моего тела потеряла чувствительность. Сообщаю о своем самочувствии каждые две-три минуты. Наверху у телефона громкой связи собрались мои товарищи, чувствую, что лихорадочно ищут путь к спасению.
В нашей работе очень важно быстро принять решение. И оно может быть только одним - правильным. Ситуация была сложной даже для моих бывалых друзей. А я уже не сидел, а висел. Все тело было парализовано.
Что делать? Можно было опустить меня до двадцати одного метра и снова поднимать по удлиненному режиму. Но я стал уже замерзать, и был парализован. Можно было спустить для помощи второго водолаза, чтобы он привязал меня к беседке и наблюдал за мной, однако это тоже был не выход из положения. Товарищи и врач действовали решительно, разумно и четко. Решено было поднять меня наверх и поместить в большую рекомпрессионную камеру, находящуюся на берегу.
Так как двигаться я не мог, а вместе со снаряжением имел немалый вес, меня выволокли по трапу на борт катера, освободили от снаряжения, разрезали водолазную рубаху. Катер полным ходом пошел к берегу, где в специально оборудованном помещении находилась рекомпрессионная камера.
Я был в сознании, но без движения, чувствовал сильные боли в суставах (коленных и кистевых), и было такое ощущение, как будто из тела уходит тепло. А день был жарким и солнечным.
На носилках принесли меня в камеру, положили на диван в один из отсеков и повели по четвертому режиму лечебной рекомпрессии*. Давление повысили до семи атмосфер (глубина семьдесят метров), боли исчезли. Пока увеличивали давление до десяти атмосфер, ощущения декомпрессионной болезни еще чувствовались. Восстановилась двигательная функция. Беспокоила сильная усталость. Но затем прошла и усталость. Я чувствовал себя хорошо.
* (Четвертый режим лечебной рекомпрессии применяется при лечении тяжелых форм, а пятый режим - при лечении особо тяжелых форм декомпрессионной болезни.)
Лечение продолжалось. Давление в камере понизили до давления на глубине пятьдесят четыре метра. Левая половина тела снова стала терять чувствительность. Сообщили об этом по телефону врачу. Доктор пытается меня успокоить, говорит, что это остаточные явления, все пройдет. Но, чем больше понижали давление в камере в соответствии с режимом лечебной рекомпрессии, тем более ухудшалось мое состояние. Потеряла чувствительность левая половина тела, появилась боль в локтевых и коленных суставах. Шли уже вторые сутки моего нахождения в рекомпрессионной камере.
Принято решение: повышать давление и лечить по пятому, последнему режиму рекомпрессии.
Но тут возникли новые трудности. На стометровой глубине по пятому режиму вентиляцию камеры принято проводить с использованием гелия, а его у нас не было. Связались с Севастополем, и машина ялтинской скорой помощи умчалась за баллонами с гелием.
А пока в отсеке камеры (в котором кроме меня находился обеспечивающий водолаз Васильев) снова повышали давление, делая через каждые десять метров погружения десятиминутные остановки. При повышении давления в камере до глубины погружения сто метров самочувствие не улучшилось. Исчезли только боли в суставах, а левая часть тела так и оставалась парализованной. Мог только перевернуться на левый бок и Двигать правой рукой и ногой. Но вот привезли гелий. Баллоны занесли во второй отсек рекомпрессионной камеры и подняли в нем давление до десяти атмосфер, выровняв с нашим отсеком. Васильев открыл переходный люк и перетащил баллоны в наш отсек. Это была трудная работа, которую на стометровой глубине в атмосфере сжатого воздуха могут проделать лишь немногие тренированные люди.
Врач дал команду Васильеву приоткрыть вентили баллонов со сжатым гелием, и в то же время оператор у распределительного щита камеры удалял из нашего отсека сжатую газовую смесь, внимательно следя за показаниями манометров. Давление должно быть строго десять атмосфер (имитация стометровой глубины погружения); отклонения тут недопустимы. Повышение всего на пол-атмосферы вызовет срабатывание предохранительного клапана, и давление в отсеке сразу же упадет до восьми атмосфер, что может привести к смерти больного.
Целый час мы находились на стометровой глубине. Режим строго выдерживался, но мое самочувствие не улучшалось. Васильев чувствовал себя нормально. В камере было очень жарко. Наружная температура была высокой, и воздух в отсек поступал очень теплый. Было принято решение обливать камеру снаружи проточной водой. Атмосфера в отсеке улучшилась.
Наконец на тридцатишестиметровой глубине я почувствовал улучшение. Восстановилась подвижность левых руки и ноги, но онемение левой стороны тела не проходило. На этой глубине почувствовал себя нехорошо Васильев - у него открылась рвота, онемели правые рука и нога. По рекомендации врача он начал их массировать, принял внутрь лекарство.
На двенадцатиметровой глубине самочувствие его стало приходить в норму. Мое состояние тоже улучшалось. Я мог уже сидеть, но левая сторона тела оставалась бесчувственной. Наступил день окончания нашего лечения. Еще несколько часов мы находились на последней, двухметровой остановке. Как-то я себя буду чувствовать вне камеры? И вот люк открылся, мы выходим из отсека рекомпрессионной камеры. Ко мне потянулись руки друзей - двигаться самостоятельно я еще не мог. Ноги с трудом подчинялись воле.
Горячий душ, отдых, наблюдение врача...
Утром следующего дня с врачом поехали в больницу. Тщательное обследование. Выяснилось, что я потерял двадцать процентов своего веса. Передвигался без посторонней помощи, но слабо. Если в рекомпрессионной камере я провел более ста часов, то в больнице пролежал месяц, а затем еще долечивался в санатории.
Восстановить функциональные способности организма полностью мне так и не удалось. Прошло несколько лет, а остаточные явления болезни сохранились. Состояние такое, будто левая сторона тела остужена, онемела...
Думаю, что этот подробный рассказ пострадавшего водолаза, отражающий картину декомпрессионной болезни, будет полезен тем, кто только начал открывать для себя океан, а также для водолазов-профессионалов.
...Я нередко встречаюсь с Борисом. Он по-прежнему любит море, продолжает заниматься любимым делом, передает опыт младшим товарищам.
|
ПОИСК:
|
© UNDERWATER.SU, 2001-2019
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://underwater.su/ 'Человек и подводный мир'
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://underwater.su/ 'Человек и подводный мир'